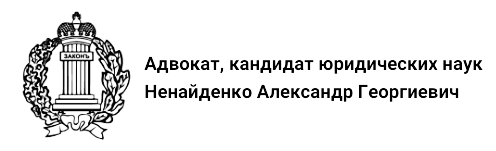Защита подозрительных сделок при банкротстве
07.12.2021
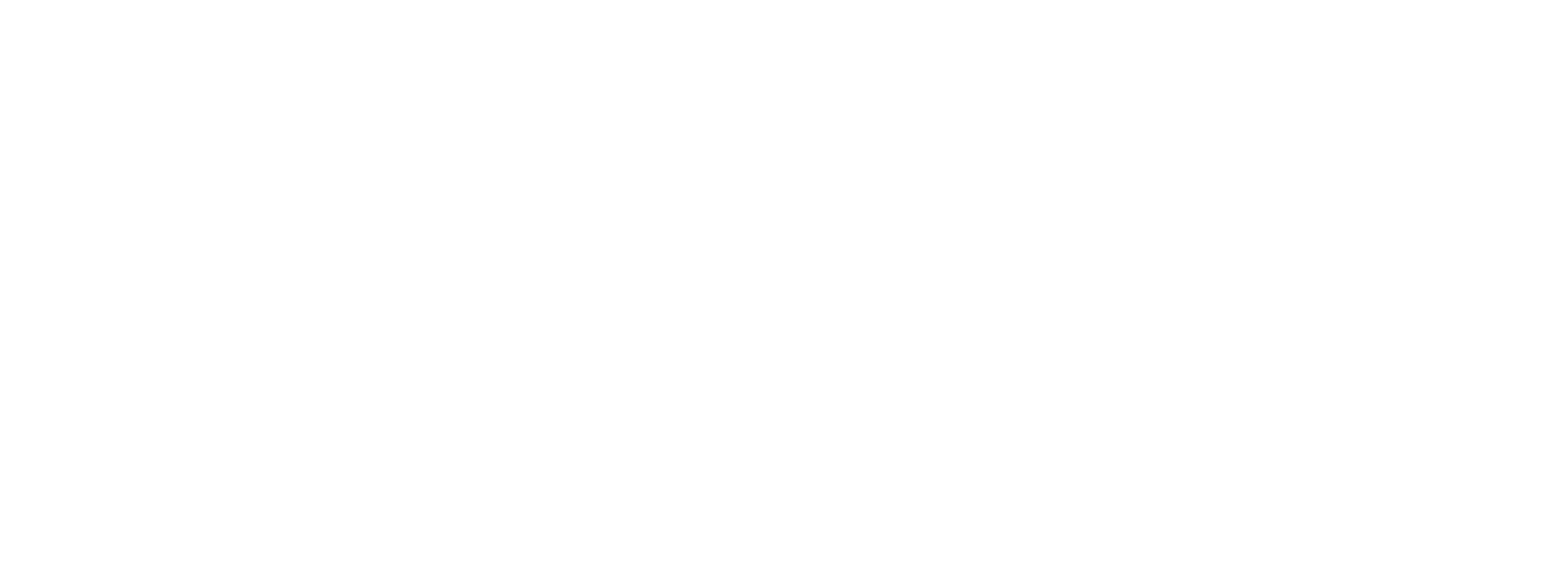
Защита сделок, заключённых с должником до банкротства последнего, долгое время считалась одной из самых сложных, почти не исполнимых задач в работе юриста-практика.
При этом следует отметить, что разъяснения высших судебных органов вполне могли соперничать по суровости с нормами главы III.1. закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «ФЗ»). Под разъяснениями в первую очередь следует понимать, конечно, Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Постановление»).
Указанное постановление, на мой взгляд, преуспело по части ограничительного толкования в части доказывания кредитором отсутствия вины в заключении каких бы то ни было сделок с должником до подачи в отношении последнего заявления о несостоятельности. Пользуясь разъяснениями постановления, арбитражные управляющие успешно оспаривали и признавали недействительными практически любые сделки.
Что касается зачётов, заключённых должником в течение года до подачи заявлений о банкротстве, – то их защита была вопросом однозначно бесперспективным.
Верховный Суд задал новый, ещё более жёсткий стандарт в отношении признания зачётов должника добросовестными сделками. Проще говоря, ВС запретил сохранять зачёты при банкротстве на основании следующих, на мой взгляд, более чем спорных правовых разъяснений: «зачет не предполагает предоставления либо встречного исполнения» и «…в случае неосуществления зачета общество бы не смогло получить от должника оплату…, в то время как должник имел бы возможность взыскать с общества цену… и пополнить конкурсную массу» (Определения Верховного Суда РФ от 17.05.2016 № 302-ЭС15-18996(1,2) по делу № А10-1646/2013; Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 № 305-ЭС17-11710(2) по делу № А40-177466/13).
Указанные разъяснения фактически послужили основанием для защиты интересов кредиторов в ущерб интересам добросовестных контрагентов должника. Получалась парадоксальная картина: по результатам признания зачёта недействительной сделкой у контрагент погашал задолженность перед должником. А для удовлетворения своего требования к должнику он включался в реестр кредиторов и хорошо если погашал своё право требования к должнику на 5%-10% от суммы проведённого зачёта.
А поскольку никакой коммерческий субъект не может быть уверен в том, что в отношении его контрагента не может быть возбуждена любая из процедур банкротстве через год-полтора после заключения зачёта, возникал вопрос вообще о его применимости в изменившейся правоприменительной практике.
Так получилось, что у меня в практике также было несколько дел, связанных с защитой заключённых в период подозрительности сделок. Одной из таких сделок стало соглашение о зачёте, оспоренное конкурсным управляющим должника в Арбитражном суде г. Москвы.
В связи с тем, что соглашение о зачёте (далее – «СОЗ»), заключённое между должником и организацией, интересы которой я представлял в процессе, касалось в том числе прекращения требований из договоров подряда, мной были приведены документальные доказательства равноценности, идентичной стоимости и «встречности» обязательств. В качестве вывода было обосновано отсутствие в СОЗ такого признака, как «отсутствие равноценного встречного исполнения» (ч. 1 ст. 61.2. ФЗ). В этом был существенный элемент риска, т.к. моя позиция противоречила разъяснениям Верховного Суда, но арбитражный суд приведённое обоснование устроило.
Было необходимо обосновать, почему СОЗ не являлось сделкой, совершённой «в целях причинения вреда имущественным интересам кредиторов» (ч. 2 ст. 61.2. ФЗ). В качестве обоснования указывалось отсутствие причинной связи между заключением СОЗ и неплатежеспособностью должника. Были указаны благоприятные последствия для финансового состояния должника в результате зачёта.
В первую очередь принимался во внимание риск оспаривания СОЗ по признаку оказания предпочтения одному из кредиторов перед другими (ст. 61.3. ФЗ).
На основании ФЗ, Постановления и неутешительной судебной практики была разработана и обоснована в суде следующая правовая позиция:
При защите СОЗ сыграло на руку отсутствие официальных обращений должника ко второй стороне СОЗ о затруднительном финансовом положении и о недостаточности у должника имущества. Кроме того, суды обеих инстанций указали, что в результате заключения СОЗ «…должник получил удовлетворение своих требований…» на сумму зачёта. Думаю, что по данному делу суды как минимум подвергли сомнению позицию Верховного Суда о том, что «зачет не предполагает предоставления либо встречного исполнения».
Из двух судебных решений следует в общем-то очевидный для всех практикующих юристов вывод о том, что зачёт обязательно предполагает встречное исполнение.
Не исключено, что вынесенные решения являются важным прецедентом по вопросам защиты соглашений о зачёте, заключённых должником в период подозрительности. Кроме стремления судов не разделять очевидно абсурдную позицию Верховного Суда, очевидно и их нежелание вызывать своими решениями «эффект домино», когда банкротство одного должника приводит к ухудшению имущественного положения других добросовестных субъектов предпринимательской деятельности.
И хотя судебная практика в целом пока разделяет позицию Верховного суда о фактической недопустимости зачётов в этот период, – есть надежда, что у добросовестных сторон наконец-то появятся дополнительные меры защиты своих законных интересов.
Указанное постановление, на мой взгляд, преуспело по части ограничительного толкования в части доказывания кредитором отсутствия вины в заключении каких бы то ни было сделок с должником до подачи в отношении последнего заявления о несостоятельности. Пользуясь разъяснениями постановления, арбитражные управляющие успешно оспаривали и признавали недействительными практически любые сделки.
Что касается зачётов, заключённых должником в течение года до подачи заявлений о банкротстве, – то их защита была вопросом однозначно бесперспективным.
Верховный Суд задал новый, ещё более жёсткий стандарт в отношении признания зачётов должника добросовестными сделками. Проще говоря, ВС запретил сохранять зачёты при банкротстве на основании следующих, на мой взгляд, более чем спорных правовых разъяснений: «зачет не предполагает предоставления либо встречного исполнения» и «…в случае неосуществления зачета общество бы не смогло получить от должника оплату…, в то время как должник имел бы возможность взыскать с общества цену… и пополнить конкурсную массу» (Определения Верховного Суда РФ от 17.05.2016 № 302-ЭС15-18996(1,2) по делу № А10-1646/2013; Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 № 305-ЭС17-11710(2) по делу № А40-177466/13).
Указанные разъяснения фактически послужили основанием для защиты интересов кредиторов в ущерб интересам добросовестных контрагентов должника. Получалась парадоксальная картина: по результатам признания зачёта недействительной сделкой у контрагент погашал задолженность перед должником. А для удовлетворения своего требования к должнику он включался в реестр кредиторов и хорошо если погашал своё право требования к должнику на 5%-10% от суммы проведённого зачёта.
А поскольку никакой коммерческий субъект не может быть уверен в том, что в отношении его контрагента не может быть возбуждена любая из процедур банкротстве через год-полтора после заключения зачёта, возникал вопрос вообще о его применимости в изменившейся правоприменительной практике.
Так получилось, что у меня в практике также было несколько дел, связанных с защитой заключённых в период подозрительности сделок. Одной из таких сделок стало соглашение о зачёте, оспоренное конкурсным управляющим должника в Арбитражном суде г. Москвы.
В связи с тем, что соглашение о зачёте (далее – «СОЗ»), заключённое между должником и организацией, интересы которой я представлял в процессе, касалось в том числе прекращения требований из договоров подряда, мной были приведены документальные доказательства равноценности, идентичной стоимости и «встречности» обязательств. В качестве вывода было обосновано отсутствие в СОЗ такого признака, как «отсутствие равноценного встречного исполнения» (ч. 1 ст. 61.2. ФЗ). В этом был существенный элемент риска, т.к. моя позиция противоречила разъяснениям Верховного Суда, но арбитражный суд приведённое обоснование устроило.
Было необходимо обосновать, почему СОЗ не являлось сделкой, совершённой «в целях причинения вреда имущественным интересам кредиторов» (ч. 2 ст. 61.2. ФЗ). В качестве обоснования указывалось отсутствие причинной связи между заключением СОЗ и неплатежеспособностью должника. Были указаны благоприятные последствия для финансового состояния должника в результате зачёта.
В первую очередь принимался во внимание риск оспаривания СОЗ по признаку оказания предпочтения одному из кредиторов перед другими (ст. 61.3. ФЗ).
На основании ФЗ, Постановления и неутешительной судебной практики была разработана и обоснована в суде следующая правовая позиция:
- к моменту подачи в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным между двумя сторонами СОЗ существовали длительные договорные отношения на общую сумму свыше 200 млн рублей;
- пропорция имущества должника в результате заключения СОЗ осталась неизменной; СОЗ позволило лишь реструктуризировать (оптимизировать) баланс должника;
- в результате заключения СОЗ не произошло увеличения размера имущественных требований к должнику. Напротив, должник получил удовлетворение своих прав к второй стороне СОЗ;
- поведение второй стороны СОЗ, интересы которой я представлял, являлось добросовестным;
- права второй стороны СОЗ как добросовестного участника гражданско-правовых отношений не могут нарушаться при реализации конкурсным управляющим механизма оспаривания сделок (в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 г. № 18245/12 по делу № А47-4285/2011).
При защите СОЗ сыграло на руку отсутствие официальных обращений должника ко второй стороне СОЗ о затруднительном финансовом положении и о недостаточности у должника имущества. Кроме того, суды обеих инстанций указали, что в результате заключения СОЗ «…должник получил удовлетворение своих требований…» на сумму зачёта. Думаю, что по данному делу суды как минимум подвергли сомнению позицию Верховного Суда о том, что «зачет не предполагает предоставления либо встречного исполнения».
Из двух судебных решений следует в общем-то очевидный для всех практикующих юристов вывод о том, что зачёт обязательно предполагает встречное исполнение.
Не исключено, что вынесенные решения являются важным прецедентом по вопросам защиты соглашений о зачёте, заключённых должником в период подозрительности. Кроме стремления судов не разделять очевидно абсурдную позицию Верховного Суда, очевидно и их нежелание вызывать своими решениями «эффект домино», когда банкротство одного должника приводит к ухудшению имущественного положения других добросовестных субъектов предпринимательской деятельности.
И хотя судебная практика в целом пока разделяет позицию Верховного суда о фактической недопустимости зачётов в этот период, – есть надежда, что у добросовестных сторон наконец-то появятся дополнительные меры защиты своих законных интересов.
Александр Ненайденко
Адвокат, кандидат юридических наук