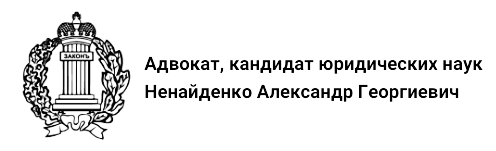Анализ решений по делу о взыскании неосновательного обогащения
24.10.2022
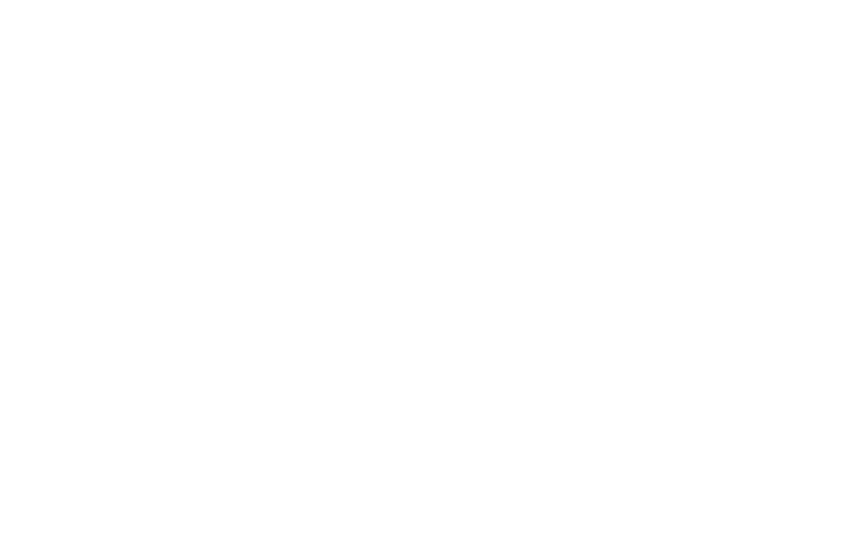
Опубликовал в СПС «Консультант Плюс» статью «Анализ судебных решений по одному делу о взыскании неосновательного обогащения».
Статья подготовлена по итогам ознакомления с судебными решениями пяти инстанций по судебному спору. Спор возник по результатам длительных фактических договорных отношений между тётей и племянником, в ходе которых последний оплачивал работы и услуги, выполненные (оказанные) третьими лицами для тёти. В то время как суды при решении спора руководствовались нормами Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении, мной сделан вывод о том, что в действительности эти отношения являются договорными (устной сделкой).
Ниже привожу полный текст статьи, оригинал которого размещен в СПС «Консультант Плюс».
Статья подготовлена по итогам ознакомления с судебными решениями пяти инстанций по судебному спору. Спор возник по результатам длительных фактических договорных отношений между тётей и племянником, в ходе которых последний оплачивал работы и услуги, выполненные (оказанные) третьими лицами для тёти. В то время как суды при решении спора руководствовались нормами Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении, мной сделан вывод о том, что в действительности эти отношения являются договорными (устной сделкой).
Ниже привожу полный текст статьи, оригинал которого размещен в СПС «Консультант Плюс».
В течение последних недель в юридическом сообществе активно обсуждаются судебные решения, принятые несколькими судебными инстанциями, включая определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, по иску Н.П. к А.Т. о взыскании неосновательного обогащения.
По-видимому, дело стало известным с лёгкой руки дзен-канала «Российской газеты» в публикации от 8 августа 2022 года. Впоследствии оно неоднократно комментировалось различными участниками юридического сообщества.
Представляется, что дело интересно прежде всего потому, что суд первой инстанции и Судебная коллегия попытались «сманеврировать» между нормами ГК РФ о неосновательном обогащении, а также нормами ГК РФ и Семейного кодекса РФ, определяющими пределы регулирования гражданских и семейных правоотношений.
Поскольку, по-видимому, все связанные с делом сроки исковой давности прошли, его можно рассмотреть, не принимая сторону кого-либо из участников дела и без нарушения прав сторон и без ущерба для осуществления правосудия по делу.
Краткое изложение фабулы дела
Племянник выполнял различные бытовые поручения своей тёти (родной сестры своей матери), в связи с чем тётя переводила ему на банковскую карту различные денежные суммы в течение восьми месяцев (с апреля по ноябрь 2017 г.). К сожалению, в связи с отсутствием протоколов судебных заседаний невозможно узнать, какого рода поручения это были. В судебных решениях указаны лишь «приобретения обедов» и «иные просьбы, связанные с расходованием личных денежных средств». При этом, насколько можно судить, платежи тёти являлись компенсацией, то есть последующим возмещением племяннику понесённых расходов. Такого рода взаимоотношения продолжались, по-видимому, около пары лет, хотя в судебном деле анализировались только правоотношения сторон за указанный период 2017 года. Затем, по-видимому, что-то произошло, и в марте 2020 года тётя подала иск к племяннику о взыскании неосновательного обогащения в размере чуть менее 142 тысяч рублей.
История судебного рассмотрения дела
Суд первой инстанции (Калининский районный суд г. Челябинска, дело № 2-2552/2020) в иске отказал полностью, указав на крайне доверительные («теплые, семейные») отношения между сторонами в период уплаты денежных средств, в связи с которыми ответчик нёс расходы для истицы и последняя их возмещала («возвратный характер производимых перечислений») [1] . Поэтому, как следует из решения суда, недобросовестность ответчика не была доказана.
Апелляция (Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, дело № 88-9995/2021) обратила внимание на то, что у истицы не было цели одарить ответчика (в том числе в целях благотворительности), поэтому пункт 4 статьи 1109 ГК РФ применяться не должен. Кроме того, в материалах дела есть банковские выписки, подтверждающие платежи истицы ответчику лишь на общую сумму чуть более 110 тысяч рублей (а не около 142 тысяч, как указывал суд первой инстанции). Кроме того, ответчик также переводил истице денежные средства на общую сумму около 31 тысячи рублей. Поэтому суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, произвел зачет между указанными суммами и принял новое решение о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере чуть более 79 тысяч рублей.
Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей (дело № 8Г-9183/2021), рассмотрев кассационную жалобу ответчика, оставила апелляционное определение в силе, указав на верное установление нижестоящими судами фактических обстоятельств дела и отсутствие нарушений норм материального и процессуального права.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации № 48-КГ21-24-К7 от 01.03.2022 г. апелляционное и кассационное определения были отменены и дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Коллегия не стала углубляться в арифметические расчёты, но указала, что суд апелляционной инстанции не дал оценки наличию родственных отношений между сторонами, и не выяснил, знала ли истица об отсутствии у неё денежных обязательств перед ответчиком в период совершения платежей. Лишь обладая такой информацией суд второй инстанции был вправе сделать вывод о применимости пункта 4 статьи 1109 ГК РФ. Таким образом, фактически коллегия ВС поддержала решение суда первой инстанции по делу.
Наконец, вынесенным в апреле 2022 года апелляционным определением № 11-5216/2022 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истицы – без удовлетворения. При этом в определении было указано о том, что «…положения п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации применимы к спорным правоотношениям» [2] .
Иные судебные решения по делу на сентябрь 2022 г. отсутствуют.
Проблемы понимания и применения пункта 4 статьи 1109 ГК РФ
Исходя из положений статьи 1102 ГК РФ, по общему правилу, лицо обязано возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное либо сбереженное имущество. Такое имущество определяется как «неосновательное обогащение». Неосновательное обогащение подлежит возврату независимо от того, чьё именно поведение (потерпевшего, приобретателя, третьих лиц) привело к появлению такого неосновательного обогащения (ч. 2 ст. 1102 ГК РФ).
Однако не всякое неосновательное обогащение может быть истребовано на законных основаниях. Статья 1109 ГК РФ содержит перечень имущества (в том числе денежных сумм), которое, будучи переданным при указанных в статье обстоятельствах, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.
При этом природа такого имущества в указанных обстоятельствах представляется не вполне определённой. Так, в первом абзаце статьи 1109 говорится о том, что такое имущество, как указывает законодатель, «не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения». Указанная норма корреспондирует части 1 ст. 1102 ГК РФ о том, что неосновательное обогащение подлежит возврату приобретателем потерпевшему, «за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109…». Отметим, что и ст. 1109 ГК РФ не говорит о том, что перечисленные в ней случаи не являются неосновательным обогащением.
Получается, что перечисленные в ст. 1109 ГК РФ случаи, безусловно являются неосновательным обогащением, однако в силу прямого указания закона они выведены из-под действия главы 60 ГК РФ, являются как бы «иным обогащением». На это обстоятельство, как и на необходимость уточнения наименования перечисленного в ст. 1109 ГК РФ имущества, неоднократно указывалось как научными исследователями, так и практикующими специалистами в области права [3] .
Поэтому исходя из буквального толкования ст.ст. 1102, 1109 ГК РФ, можно говорит о том, что не всякое неосновательное обогащение подлежит возврату потерпевшему.
К сожалению, в настоящее время отсутствуют руководящие разъяснения Верховного Суда РФ, позволяющие по-иному взглянуть на перечисленные в ст. 1109 ГК РФ виды неосновательного обогащения, узнать наличие либо отсутствие иных правовых последствий между перечисленными в ст. 1109 ГК РФ и иными видами неосновательного обогащения.
Так или иначе, применительно к рассматриваемому спору и независимо от изложенных выше соображений, суды, как представляется, не смогли точно соблюсти требование, установленное п. 4 ст. 1109 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой, в частности, для освобождения от обязательства по возврату неосновательного обогащения приобретатель должен доказать, что потерпевший знал об отсутствии у него обязательства перед приобретателем.
Иными словами, для точного исполнения требования п. 4 ст. 1109 ГК РФ, именно А.Т. (ответчик) должен был доказать, что Н.П. (истица) знала об отсутствии у неё обязательства по уплате своему племяннику денежных средств.
Однако сама по себе формулировка о том, что один человек обязан доказать наличие знания у другого человека вряд ли выдержит серьёзную критику. О таком знании, при отсутствии «документального признания», можно судить лишь по косвенным признакам. В рассматриваемом случае, например, ответчик мог представить интернет-переписку либо переписку в социальных сетях, содержащую просьбы истицы об оплате каких-либо счетов с обещаниями возместить расходы, а также её подтверждения произведенных платежей в переписке в качестве последующего одобрения. Кроме того, косвенно в пользу ответчика говорит и тот факт, что истица, по-видимому, ни разу ни в какой форме не пыталась отозвать совершенные на карту ответчика платежи как произведённые ошибочно. Далее, как можно судить из содержания судебных решений по делу, Н.П. за период с апреля по ноябрь 2017 года (период совершения ею платежей ответчику) не обращалась к ответчику с требованием вернуть полученные последним денежные средства как неосновательное обогащение. Наконец, истица могла также обратиться с заявлением о совершённом ответчиком в отношении неё преступлении, в результате которого она была вынуждена уплачивать ему денежные средства по каким-либо основаниям. Однако истицей подобные действия не предпринимались.
Представляется, что изложенные выше соображения об объективной невозможности одним лицом (А.Т.) безошибочно знать и документально доказать наличие либо отсутствие знания у другого лица (Н.П.), было принято во внимание судом первой инстанции. Поэтому суд в принятом решении указал:
В определении ВС РФ особенно примечательным представляются два указания. Во-первых, юридически значимым обстоятельством для рассмотрения дела ВС признал «родственные отношения» сторон. Во-вторых, вопреки п. 4 ст. 1109 ГК РФ, не на ответчика, а на саму истицу было возложено обязательство по доказыванию своей добросовестности. По мнению ВС РФ, именно истица, а ответчик как «неосновательно обогатившийся», должна была свою неосведомлённость о том, что в течение нескольких месяцев платежи племяннику совершались ею при отсутствии перед ним обязательств.
Таким образом, Верховный Суд при рассмотрении дела освободил приобретателя от обязанности доказать недобросовестность потерпевшей – и, напротив, обязал последнюю доказать свою добросовестность. Безусловно, такая позиция формально вроде бы соответствует ч. 1 ст. 56 ГПК РФ. Однако исходя из правила о конкуренции норм, должна применяться именно специальная норма, т.е. п. 4 ст. 1109 ГК РФ. Тем более, что и ч. 1 ст. 56 ГПК РФ предусматривает применение именно специальных норм.
Значение факта «теплых, семейных отношений» для гражданского иска
В решении суда первой инстанции по делу в качестве одного из доказательств добросовестности действий ответчика были приведены показания двух свидетелей, указавших на наличие между сторонами «теплых, семейных отношений» в спорный период времени. Упоминание таких отношений имеется во всех судебных актах по делу, кроме определения Седьмого кассационного суда.
Вызывает определенные сомнения целесообразность оценки личных отношений между сторонами чисто гражданского правоотношения вообще, и наличие между ними хороших личных отношений, в частности.
Истец и ответчик, как было установлено в судебном заседании, являются близкими родственниками, а именно, тётей и племянником. Однако, поскольку иное не отражено в судебных актах по делу, истец и ответчик не являются ни супругами, ни родителем и ребёнком (усыновителем и усыновлённым). Поэтому как личные неимущественные, так и имущественные отношения между ними как дееспособными лицами регулируются нормами не семейного, а исключительно гражданского законодательства (ст.ст. 2, 3 СК РФ, ст. 2 ГК РФ). В соответствии же с ч. 1 ст. 2 ГК РФ, «гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота… регулирует… договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников».
Таким образом, наличие родственных связей между сторонами рассматриваемого дела не должно сказываться на оценке правоотношений между ними. Собственно, оно и не сказалось, так как нормы главы 60 ГК РФ применяются ко всем участникам гражданского оборота без учета семейных, родственных связей. Упоминание родственных связей и «семейных» отношений между сторонами также по сути ничего не обосновало и не доказало. Наличие особых личных, доверительных, «семейных» отношений, пожалуй, имело бы значение по уголовному делу при совершении одним родственником преступления против собственности в отношении другого родственника, – например, при мошенничестве. Однако в гражданско-правовых отношениях по рассматриваемому делу фактором родства можно и даже необходимо пренебречь.
Показательным было бы сравнение нашего гражданского законодательства и английского контрактного права применительно к оценке гражданско-правовых отношений между родственниками. Вот как описывает Н.Г. Санников в пособии «Английское контрактное право» (English law of contract) одно из главных требований к законности заключённого договора (перевод мой): «Представим, например, такую ситуацию. Я договорился со своей дочерью, что она осуществит набор моей рукописи, а я обязуюсь уплатить ей оговорённую денежную сумму. Дочь согласна. Создаст ли такая договорённость юридически обязательный к исполнению договор? Кажется, что создаст. Вроде бы нет оснований судить об обратном. Мы заключили соглашение, и оно обеспечивается встречным исполнением. Однако маловероятно, что английский суд признает достижением нами юридически обязывающего договора, поскольку у нас отсутствовало «намерение создать правовые отношения», которое является необходимым элементом любого договора. <…> В то же время, если у соглашения есть признаки делового соглашения, суд может усмотреть в действиях сторон намерение заключить юридически обязывающий договор» [4] .
Любопытно, что если в соответствии с российским законодательством отношения между истцом и ответчиком однозначно носят юридический, правовой характер, то в соответствии с английским правом, как видно из изложенного, это далеко не очевидно. Более того, если бы в ч. 1 ст. 2 ГК РФ отсутствовала приведённая выше норма, то в нашем случае, поскольку судом не было установлено наличие каких бы то ни было подписанных сторонами документов (договоров, соглашений и т.п.), с высокой степенью вероятности можно было бы судить о том, что отношения между ними носили «не такой уж и правовой характер». Во всяком случае, ответчик, со своей стороны, не предъявлял встречный иск о взыскании с тёти стоимости услуг и убытков, связанных с «приобретением для истицы обедов» и с выполнением «иных просьб, связанных с расходованием личных денежных средств». Однако поскольку указанная выше формулировка ч. 1 ст. 2 ГК РФ существует, то правоприменитель обязан давать правовую оценку отношениям сторон по иску без оглядки на «семейный» и «доверительный» характер отношений.
Таким образом, указание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации на семейные отношения между сторонами (не являющимися супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновлёнными)) как на обязательное условие рассмотрения между ними гражданско-правового спора – не является основанным на действующем национальном законодательстве и, в свою очередь, может негативно сказаться при дальнейшем формировании судебной практики по гражданско-правовым спорам между состоящими в родстве лицами.
Какие гражданско-правовые отношения в действительности фактически сложились между сторонами спора?
С моей точки зрения, очевидными следует считать следующие юридические факты:
На основании изложенного, полагаю, оценка фактически сложившихся правоотношений между истцом и ответчиком как смешанного договора (посреднический договор с элементами договора займа) точнее, чем предпринятая судами их оценка как отношений из неосновательного обогащения.
Тем не менее, следует признать, что срок исковой давности для предъявления А.Т. иска к Н.П. о задолженности по такому договору, скорее всего, истёк (если не произошло одно из событий либо не совершено одно из действий, перечисленных в ст.ст. 203, 205 ГК РФ).
[1] Текст решения доступен на сайте Калининского районного суда г. Челябинска.
[2] Текст определения доступен на сайте Челябинского областного суда.
[3] См., например: Соломина Н.Г. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения// Право и экономика, 2007, № 5. Также см.: Дихтяр А.И., Анисимова Е.С. Обязательства, связанные с неосновательным обогащением: вопросы теории и практики // СПС КонсультантПлюс. 2008.
[4] N. Sannikov. English law of contract. Moscow, 2010. P. 55-56.
[5] Шайхутдинов Е.М. Эстоппель // СПС КонсультантПлюс. 2022.
Публикация подготовлена по материалам, актуальным на 05.09.2022 г.
По-видимому, дело стало известным с лёгкой руки дзен-канала «Российской газеты» в публикации от 8 августа 2022 года. Впоследствии оно неоднократно комментировалось различными участниками юридического сообщества.
Представляется, что дело интересно прежде всего потому, что суд первой инстанции и Судебная коллегия попытались «сманеврировать» между нормами ГК РФ о неосновательном обогащении, а также нормами ГК РФ и Семейного кодекса РФ, определяющими пределы регулирования гражданских и семейных правоотношений.
Поскольку, по-видимому, все связанные с делом сроки исковой давности прошли, его можно рассмотреть, не принимая сторону кого-либо из участников дела и без нарушения прав сторон и без ущерба для осуществления правосудия по делу.
Краткое изложение фабулы дела
Племянник выполнял различные бытовые поручения своей тёти (родной сестры своей матери), в связи с чем тётя переводила ему на банковскую карту различные денежные суммы в течение восьми месяцев (с апреля по ноябрь 2017 г.). К сожалению, в связи с отсутствием протоколов судебных заседаний невозможно узнать, какого рода поручения это были. В судебных решениях указаны лишь «приобретения обедов» и «иные просьбы, связанные с расходованием личных денежных средств». При этом, насколько можно судить, платежи тёти являлись компенсацией, то есть последующим возмещением племяннику понесённых расходов. Такого рода взаимоотношения продолжались, по-видимому, около пары лет, хотя в судебном деле анализировались только правоотношения сторон за указанный период 2017 года. Затем, по-видимому, что-то произошло, и в марте 2020 года тётя подала иск к племяннику о взыскании неосновательного обогащения в размере чуть менее 142 тысяч рублей.
История судебного рассмотрения дела
Суд первой инстанции (Калининский районный суд г. Челябинска, дело № 2-2552/2020) в иске отказал полностью, указав на крайне доверительные («теплые, семейные») отношения между сторонами в период уплаты денежных средств, в связи с которыми ответчик нёс расходы для истицы и последняя их возмещала («возвратный характер производимых перечислений») [1] . Поэтому, как следует из решения суда, недобросовестность ответчика не была доказана.
Апелляция (Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, дело № 88-9995/2021) обратила внимание на то, что у истицы не было цели одарить ответчика (в том числе в целях благотворительности), поэтому пункт 4 статьи 1109 ГК РФ применяться не должен. Кроме того, в материалах дела есть банковские выписки, подтверждающие платежи истицы ответчику лишь на общую сумму чуть более 110 тысяч рублей (а не около 142 тысяч, как указывал суд первой инстанции). Кроме того, ответчик также переводил истице денежные средства на общую сумму около 31 тысячи рублей. Поэтому суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, произвел зачет между указанными суммами и принял новое решение о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере чуть более 79 тысяч рублей.
Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей (дело № 8Г-9183/2021), рассмотрев кассационную жалобу ответчика, оставила апелляционное определение в силе, указав на верное установление нижестоящими судами фактических обстоятельств дела и отсутствие нарушений норм материального и процессуального права.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации № 48-КГ21-24-К7 от 01.03.2022 г. апелляционное и кассационное определения были отменены и дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Коллегия не стала углубляться в арифметические расчёты, но указала, что суд апелляционной инстанции не дал оценки наличию родственных отношений между сторонами, и не выяснил, знала ли истица об отсутствии у неё денежных обязательств перед ответчиком в период совершения платежей. Лишь обладая такой информацией суд второй инстанции был вправе сделать вывод о применимости пункта 4 статьи 1109 ГК РФ. Таким образом, фактически коллегия ВС поддержала решение суда первой инстанции по делу.
Наконец, вынесенным в апреле 2022 года апелляционным определением № 11-5216/2022 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истицы – без удовлетворения. При этом в определении было указано о том, что «…положения п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации применимы к спорным правоотношениям» [2] .
Иные судебные решения по делу на сентябрь 2022 г. отсутствуют.
Проблемы понимания и применения пункта 4 статьи 1109 ГК РФ
Исходя из положений статьи 1102 ГК РФ, по общему правилу, лицо обязано возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное либо сбереженное имущество. Такое имущество определяется как «неосновательное обогащение». Неосновательное обогащение подлежит возврату независимо от того, чьё именно поведение (потерпевшего, приобретателя, третьих лиц) привело к появлению такого неосновательного обогащения (ч. 2 ст. 1102 ГК РФ).
Однако не всякое неосновательное обогащение может быть истребовано на законных основаниях. Статья 1109 ГК РФ содержит перечень имущества (в том числе денежных сумм), которое, будучи переданным при указанных в статье обстоятельствах, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.
При этом природа такого имущества в указанных обстоятельствах представляется не вполне определённой. Так, в первом абзаце статьи 1109 говорится о том, что такое имущество, как указывает законодатель, «не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения». Указанная норма корреспондирует части 1 ст. 1102 ГК РФ о том, что неосновательное обогащение подлежит возврату приобретателем потерпевшему, «за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109…». Отметим, что и ст. 1109 ГК РФ не говорит о том, что перечисленные в ней случаи не являются неосновательным обогащением.
Получается, что перечисленные в ст. 1109 ГК РФ случаи, безусловно являются неосновательным обогащением, однако в силу прямого указания закона они выведены из-под действия главы 60 ГК РФ, являются как бы «иным обогащением». На это обстоятельство, как и на необходимость уточнения наименования перечисленного в ст. 1109 ГК РФ имущества, неоднократно указывалось как научными исследователями, так и практикующими специалистами в области права [3] .
Поэтому исходя из буквального толкования ст.ст. 1102, 1109 ГК РФ, можно говорит о том, что не всякое неосновательное обогащение подлежит возврату потерпевшему.
К сожалению, в настоящее время отсутствуют руководящие разъяснения Верховного Суда РФ, позволяющие по-иному взглянуть на перечисленные в ст. 1109 ГК РФ виды неосновательного обогащения, узнать наличие либо отсутствие иных правовых последствий между перечисленными в ст. 1109 ГК РФ и иными видами неосновательного обогащения.
Так или иначе, применительно к рассматриваемому спору и независимо от изложенных выше соображений, суды, как представляется, не смогли точно соблюсти требование, установленное п. 4 ст. 1109 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой, в частности, для освобождения от обязательства по возврату неосновательного обогащения приобретатель должен доказать, что потерпевший знал об отсутствии у него обязательства перед приобретателем.
Иными словами, для точного исполнения требования п. 4 ст. 1109 ГК РФ, именно А.Т. (ответчик) должен был доказать, что Н.П. (истица) знала об отсутствии у неё обязательства по уплате своему племяннику денежных средств.
Однако сама по себе формулировка о том, что один человек обязан доказать наличие знания у другого человека вряд ли выдержит серьёзную критику. О таком знании, при отсутствии «документального признания», можно судить лишь по косвенным признакам. В рассматриваемом случае, например, ответчик мог представить интернет-переписку либо переписку в социальных сетях, содержащую просьбы истицы об оплате каких-либо счетов с обещаниями возместить расходы, а также её подтверждения произведенных платежей в переписке в качестве последующего одобрения. Кроме того, косвенно в пользу ответчика говорит и тот факт, что истица, по-видимому, ни разу ни в какой форме не пыталась отозвать совершенные на карту ответчика платежи как произведённые ошибочно. Далее, как можно судить из содержания судебных решений по делу, Н.П. за период с апреля по ноябрь 2017 года (период совершения ею платежей ответчику) не обращалась к ответчику с требованием вернуть полученные последним денежные средства как неосновательное обогащение. Наконец, истица могла также обратиться с заявлением о совершённом ответчиком в отношении неё преступлении, в результате которого она была вынуждена уплачивать ему денежные средства по каким-либо основаниям. Однако истицей подобные действия не предпринимались.
Представляется, что изложенные выше соображения об объективной невозможности одним лицом (А.Т.) безошибочно знать и документально доказать наличие либо отсутствие знания у другого лица (Н.П.), было принято во внимание судом первой инстанции. Поэтому суд в принятом решении указал:
- период времени, в течение которого между истцом и ответчиком осуществлялись изложенные выше расчёты, является продолжительным;
- аналогичные расчёты производились сторонами и в период времени, предшествовавший оспариваемому, а общая продолжительность расчётов составила «не менее двух лет»;
- истица «добровольно и намеренно» несла расходы, связанные с неоднократным переводом денежных средств ответчику;
- совершённые истицей платежи являлись компенсацией расходов, первоначально понесённых ответчиком в интересах истицы и лишь впоследствии компенсированных последней;
- между ответчиком и истицей отсутствовало соглашение о компенсации затрат, понесённых последней, а сами отношения были «теплые, семейные».
- «указанная норма (п. 4 ст. 1109 ГК РФ – А.Г. Ненайденко) подлежит применению лишь в тех случаях, когда лицо действовало с намерением одарить другую сторону или с целью благотворительности… При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на приобретателе имущества… Ответчиком не представлены доказательства наличия правых оснований для удержания денег, а так же того, что истица перечисляла на его счет денежные средства в дар либо в целях благотворительности» (апелляционное определение № 11-3035/2021 от 09.04.2021 г. Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда);
- «поскольку истец не имел намерения передать денежные средства в дар или предоставить их ответчику с целью благотворительности, оснований для применения пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации… к существующим отношениям сторон не имелось» (определение № 88-9995/2021 от 23.06.2021 г. Судебной коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции).
- знала ли истица о том, что она предоставляла денежные средства ответчику в отсутствие обязательства;
- родственные отношения сторон;
- неоднократное перечисление денежных средств истицей ответчику в течение нескольких месяцев.
В определении ВС РФ особенно примечательным представляются два указания. Во-первых, юридически значимым обстоятельством для рассмотрения дела ВС признал «родственные отношения» сторон. Во-вторых, вопреки п. 4 ст. 1109 ГК РФ, не на ответчика, а на саму истицу было возложено обязательство по доказыванию своей добросовестности. По мнению ВС РФ, именно истица, а ответчик как «неосновательно обогатившийся», должна была свою неосведомлённость о том, что в течение нескольких месяцев платежи племяннику совершались ею при отсутствии перед ним обязательств.
Таким образом, Верховный Суд при рассмотрении дела освободил приобретателя от обязанности доказать недобросовестность потерпевшей – и, напротив, обязал последнюю доказать свою добросовестность. Безусловно, такая позиция формально вроде бы соответствует ч. 1 ст. 56 ГПК РФ. Однако исходя из правила о конкуренции норм, должна применяться именно специальная норма, т.е. п. 4 ст. 1109 ГК РФ. Тем более, что и ч. 1 ст. 56 ГПК РФ предусматривает применение именно специальных норм.
Значение факта «теплых, семейных отношений» для гражданского иска
В решении суда первой инстанции по делу в качестве одного из доказательств добросовестности действий ответчика были приведены показания двух свидетелей, указавших на наличие между сторонами «теплых, семейных отношений» в спорный период времени. Упоминание таких отношений имеется во всех судебных актах по делу, кроме определения Седьмого кассационного суда.
Вызывает определенные сомнения целесообразность оценки личных отношений между сторонами чисто гражданского правоотношения вообще, и наличие между ними хороших личных отношений, в частности.
Истец и ответчик, как было установлено в судебном заседании, являются близкими родственниками, а именно, тётей и племянником. Однако, поскольку иное не отражено в судебных актах по делу, истец и ответчик не являются ни супругами, ни родителем и ребёнком (усыновителем и усыновлённым). Поэтому как личные неимущественные, так и имущественные отношения между ними как дееспособными лицами регулируются нормами не семейного, а исключительно гражданского законодательства (ст.ст. 2, 3 СК РФ, ст. 2 ГК РФ). В соответствии же с ч. 1 ст. 2 ГК РФ, «гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота… регулирует… договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников».
Таким образом, наличие родственных связей между сторонами рассматриваемого дела не должно сказываться на оценке правоотношений между ними. Собственно, оно и не сказалось, так как нормы главы 60 ГК РФ применяются ко всем участникам гражданского оборота без учета семейных, родственных связей. Упоминание родственных связей и «семейных» отношений между сторонами также по сути ничего не обосновало и не доказало. Наличие особых личных, доверительных, «семейных» отношений, пожалуй, имело бы значение по уголовному делу при совершении одним родственником преступления против собственности в отношении другого родственника, – например, при мошенничестве. Однако в гражданско-правовых отношениях по рассматриваемому делу фактором родства можно и даже необходимо пренебречь.
Показательным было бы сравнение нашего гражданского законодательства и английского контрактного права применительно к оценке гражданско-правовых отношений между родственниками. Вот как описывает Н.Г. Санников в пособии «Английское контрактное право» (English law of contract) одно из главных требований к законности заключённого договора (перевод мой): «Представим, например, такую ситуацию. Я договорился со своей дочерью, что она осуществит набор моей рукописи, а я обязуюсь уплатить ей оговорённую денежную сумму. Дочь согласна. Создаст ли такая договорённость юридически обязательный к исполнению договор? Кажется, что создаст. Вроде бы нет оснований судить об обратном. Мы заключили соглашение, и оно обеспечивается встречным исполнением. Однако маловероятно, что английский суд признает достижением нами юридически обязывающего договора, поскольку у нас отсутствовало «намерение создать правовые отношения», которое является необходимым элементом любого договора. <…> В то же время, если у соглашения есть признаки делового соглашения, суд может усмотреть в действиях сторон намерение заключить юридически обязывающий договор» [4] .
Любопытно, что если в соответствии с российским законодательством отношения между истцом и ответчиком однозначно носят юридический, правовой характер, то в соответствии с английским правом, как видно из изложенного, это далеко не очевидно. Более того, если бы в ч. 1 ст. 2 ГК РФ отсутствовала приведённая выше норма, то в нашем случае, поскольку судом не было установлено наличие каких бы то ни было подписанных сторонами документов (договоров, соглашений и т.п.), с высокой степенью вероятности можно было бы судить о том, что отношения между ними носили «не такой уж и правовой характер». Во всяком случае, ответчик, со своей стороны, не предъявлял встречный иск о взыскании с тёти стоимости услуг и убытков, связанных с «приобретением для истицы обедов» и с выполнением «иных просьб, связанных с расходованием личных денежных средств». Однако поскольку указанная выше формулировка ч. 1 ст. 2 ГК РФ существует, то правоприменитель обязан давать правовую оценку отношениям сторон по иску без оглядки на «семейный» и «доверительный» характер отношений.
Таким образом, указание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации на семейные отношения между сторонами (не являющимися супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновлёнными)) как на обязательное условие рассмотрения между ними гражданско-правового спора – не является основанным на действующем национальном законодательстве и, в свою очередь, может негативно сказаться при дальнейшем формировании судебной практики по гражданско-правовым спорам между состоящими в родстве лицами.
Какие гражданско-правовые отношения в действительности фактически сложились между сторонами спора?
С моей точки зрения, очевидными следует считать следующие юридические факты:
- заключение сторонами устной сделки (договоров), что соответствует ст. 159, ч. 2 ст. 161, ч.ч. 1, 3 ст. 432 ГК РФ. При этом отношения можно считать как одним рамочным договором (ст. 429.1 ГК РФ) с последующей конкретизацией и уточнением его условий путём заключения отдельных договоров, – так и заключение сторонами каждый раз нового смешанного договора;
- вид заключённого договора (заключённых договоров), – скорее всего, договор комиссии, но может быть также и договор поручения либо агентирования (в зависимости у кого именно из сторон иска возникают права и обязанности по заключённым ответчиком в интересах истицы сделкам). Предмет заключённого договора (заключённых договоров) – совершение ответчиком по поручению истца за вознаграждение совершить одну или несколько сделок. По-видимому, действия ответчика в интересах истицы нельзя считать действиями в чужом интересе без поручения (глава 50 ГК РФ), т.к. в решении суда первой инстанции указано, что «…ответчик по просьбе истца приобретал для неё обеды, выполнял иные просьбы…». Таким образом, фактическим договорным отношениям предшествовали во всех случаях просьбы истца;
- договор является смешанным, т.к. помимо элементов одного из перечисленных выше договоров он содержит элементы договора займа (ст. 807 ГК РФ);
- цена договора (договоров) – не определялась, но подлежит определению на основании п. 3 ст. 424 ГК РФ (а также, в зависимости от того, каким именно договором будут признаны фактические договорные отношения между сторонами, одна из следующих норм: п. 2 ст. 972 либо п. 1 ст. 991 либо ст. 1006 ГК РФ). При этом цена договора (вознаграждение ответчика как поверенного, комиссионера либо агента) не включает суммы «целевого финансирования», т.е. понесённые ответчиком расходы, и составляет лишь стоимость действия ответчика по совершению платежей. Проценты за пользование денежными средствами, как и проценты за пользование займом, подлежат уплате сверх цены договора. Исключение из цены договора заёмных сумм и подлежащих уплате процентов за пользование займами целесообразно также и потому, что в противном случае не будет соблюдено императивное требование п. 2 ч. 1 ст. 161 ГК РФ о письменной форме сделки. По этой же причине цену договора (размер вознаграждения ответчика) необходимо определить в размере не более десяти тысяч рублей.
На основании изложенного, полагаю, оценка фактически сложившихся правоотношений между истцом и ответчиком как смешанного договора (посреднический договор с элементами договора займа) точнее, чем предпринятая судами их оценка как отношений из неосновательного обогащения.
Тем не менее, следует признать, что срок исковой давности для предъявления А.Т. иска к Н.П. о задолженности по такому договору, скорее всего, истёк (если не произошло одно из событий либо не совершено одно из действий, перечисленных в ст.ст. 203, 205 ГК РФ).
[1] Текст решения доступен на сайте Калининского районного суда г. Челябинска.
[2] Текст определения доступен на сайте Челябинского областного суда.
[3] См., например: Соломина Н.Г. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения// Право и экономика, 2007, № 5. Также см.: Дихтяр А.И., Анисимова Е.С. Обязательства, связанные с неосновательным обогащением: вопросы теории и практики // СПС КонсультантПлюс. 2008.
[4] N. Sannikov. English law of contract. Moscow, 2010. P. 55-56.
[5] Шайхутдинов Е.М. Эстоппель // СПС КонсультантПлюс. 2022.
Публикация подготовлена по материалам, актуальным на 05.09.2022 г.
Александр Ненайденко
Адвокат, кандидат юридических наук